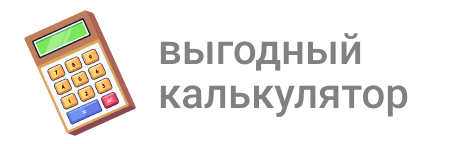Всё началось с того, что моему сыну в глаз попал лист...
— Не трогай его, — сказал я. — И тем более голыми руками.
Мы с женой Аней склонились над нашим сыном в гостиной, поворачивая его лицо под светом. В наружном углу его левого глаза застрял крошечный кленовый листок: одна половинка сложилась и ушла под веко.
Как он туда попал — никто не знал. В округе росло много кленов, конечно, но как их листу удалось так глубоко проникнуть случайно, я не представлял.
Разумеется, оставалась вероятность, что Люк по какой-то глупой причине засунул его туда сам, но он был не из тех детей. Серьёзный, молчаливый мальчик, «восемь лет, но уже как восемьдесят», как мы с Аней говорили. Даже сейчас он терпеливо стоял, пока мы вертели его лицо туда-сюда, споря, отвезти ли его к врачу или попытаться вынуть листок самостоятельно.
— А если он поцарапает глаз? — сказал я. — Он ослепнет.
— Не говори так, — одёрнула Аня. — Лист сидит у самого края. Просто вытащим, и всё.
Она всё тянулась щипнуть листок пальцами, и каждый раз я останавливал её: меня пугала сама мысль, что её кожа коснётся его.
Откуда взялся этот страх, я не понимал, да это и не имело значения. Если у меня появлялось предчувствие, я ему верил — и никогда ещё не ошибался.
— Пинцет, — сказал я. — Сейчас принесу. Им и достанем.
Я рванул за ним так быстро, как мог, опасаясь, что Аня, пока меня нет, схватит листок и начнёт его вытягивать. Упрямства в ней было не меньше, чем во мне; большая часть наших разногласий сводилась к тому, кто прав. Порой меня удивляло, что мы умудрились вместе вырастить ребёнка.
Вернувшись с пинцетом, я протянулся за ним.
— Подожди, — остановил я её. — У меня рука твёрже.
Аня открыла рот, чтобы возразить, но Люк неожиданно сказал:
— Хочу, чтобы папа.
Сказал спокойно, без истерики, и хоть это было в его характере, мне вдруг захотелось отступить, даже выйти из комнаты. Лишь позже я понял: он принимал происходящее с усталой покорностью человека, стоящего на пороге смерти.
Держа пинцет как можно деликатнее, я ухватил кончик листка; другой рукой осторожно поддержал голову сына. Затем начал тянуть, наблюдая, как лист выходит, влажный, пропитанный слезами.
Выходить он, однако, не прекращал: за листом тянулся тонкий прутик, а на нём — новые клейкие листочки, некоторые смочены кровью.
Аня вскрикнула, но я не мог остановиться, извлекая всё новые звенья хрупкой ветви с оцепенелым ужасом.
Люк не сопротивлялся, не показывал ни боли, ни страха; он стоял спокойно, безгранично доверяя мне, а я продолжал вытягивать листья изнутри его головы. Я не мог представить, как они туда попали, и в воображении с отвращением видел, как мой сын в парке отломал молодую ветку и аккуратно ввёл её через глазницу.
Но уже тогда я понимал: в действительности туда каким-то образом попало семя или спор, и в тёплой, питательной среде глазницы оно проросло.
Сбоку я смутно видел, как Аня суетится; я был слишком загипнотизирован бесконечной плетью листьев. Потом она склонилась надо мной с ножницами и отрезала веточку как можно ближе к глазу, так что остаток упал на ковер.
Я отшатнулся, испугавшись даже касания одежды о него.
— Люк, — спросил я. — Ты в порядке?
Он с трудом моргнул: обрубок царапал верхнее веко.
— В порядке, — сказал он. — Я почти не чувствую. Почти.
Я хотел, чтобы он закричал, разрыдался — сделал хоть что-нибудь, приличествующее ребёнку в такой ситуации.
Но дорогу в больницу он провёл в тишине, как и все обследования. Молчала и Аня, крепко держа сына за руку, будто он исчезнет, отпусти она её хоть на миг. Каждый раз, когда их разводили, она начинала беспокойно ходить по коридору, пока я не усаживал её обратно на пластиковый стул.
Наконец нас провели в отдельный кабинет. Люк сел в угол с карандашом и блокнотом, не обращая внимания на разговор.
Доктор Райлард то и дело поглядывал на него выражением, которое я не мог прочитать — и потому оно пугало. Я сразу заподозрил: он скрывает нечто большее, чем диагноз.
— Итак, — начала Аня. — Рентген, МРТ, всё, что вы делали всё это время... Что не так с Люком?
Доктор подвёл нас к стене, где висели снимки.
— Вы хотели знать, насколько глубоко проросло растение, — заговорил он вполголоса. — Думали, что всё началось с семени в глазу?
— Разве не так? — спросил я. — Что вы имеете в виду?
Но на снимках я и сам видел белёсую паутину ветвей среди серых тканей: кости, мышцы, органы — и сквозь них переплетение побегов.
Их было столько, что невозможно было понять, где начало, где корни.
Я видел дома, опоясанные плющом, пока кирпичи не расползались в его удушье. Теперь понял: то же случается с моим сыном и происходит давно.
— Вы ничего не можете сделать? — спросил я хрипло. — Операция, удаление?
Доктор покачал головой.
— Он не переживёт. Посмотрите: растение пронизало лёгкие, сердце — повреждения обширные. Любая попытка ухудшит ситуацию.
Аня сорвала один снимок, сминая его в руке.
— То есть вы ничего не сделаете? Просто дадите ему умереть?
Доктор вздохнул и снова взглянул на Люка, который безмятежно рисовал, будто спор не касался его.
— Я говорю, что это терминально, — признал он. — Мы можем обсудить паллиативный уход. Хотя я не вправе говорить о других пациентах, скажу: операцию пробовали. Выживаемость — крайне низкая.
— Были другие с… этим? — спросил я. — Это же редкость, почти невозможно.
Доктор кашлянул и начал перекладывать бумаги, явно желая закончить разговор.
— Как я сказал, я не могу…
Аня преградила ему путь.
— Стойте. Вы что-то знаете. Что это? Откуда взялось?
Он замялся, глаза метались.
— Простите, миссис Максвелл, но я…
— Я хочу домой, — вдруг отчётливо сказал Люк, и мы все уставились на него, будто ему перечить было нельзя. — Не больно. Можно мы пойдём?
Он подошёл и взял мать за руку — так он не делал давно. Аня смягчилась, глядя вверх, чтобы сдержать слёзы.
— Хорошо, малыш. Пойдём.
Я задержался, глядя доктору в глаза, пока тот не отступил.
— Это как у остальных? — прошипел я. — Спокойствие, будто всё нормально?
Врач опустил взгляд.
— Нет. Не у всех. Некоторые злятся… и это намного хуже.
В ту минуту я возненавидел его — глухой яростью, что нельзя направить на дерево, убивавшее моего сына.
— Да, — сказал я. — Какая разница, если вы всё равно ничего не можете.
Мы втроём, как раньше, шли по парковке, держась за руки. Люк оглядывал всё вокруг — птиц, яркие машины, камешки — с прежним любопытством, не обращая внимания на веточку, заново выдвинувшуюся из его глаза.
Я думал, почему ему не больно, когда через него прорастает дерево и, видимо, питается им. Может, листья выделяют что-то, делая его покладистым хозяином. Я с самого начала считал это болезнью, заразной, к тому же.
Хотел расспросить Люка, почему он не боится смерти, но он показался мне таким маленьким, что слова застряли. Я лишь шёл рядом, кивая на его замечания, будто мне не рвёт сердце.
Сбоку шатался мужчина — сперва я подумал, бездомный или пьяный. Но, приблизившись, увидел: из всех отверстий его лица торчали розовые шипы, а лепестки свисали, словно кровь.
Он ковылял, потому что был слеп: его, видно, бросили тут из-за страха.
Аня вскрикнула, но Люк только смотрел без ужаса.
— Сэр, — сказал я, пытаясь быть добрым ради видимости нормальности. — Позвольте помочь.
Мужчина вздрогнул, но шагнул ближе, и я понял риск. «Некоторые злятся», — вспомнились слова доктора.
— Сэр, — повторил я осторожнее. — Мы хотим помочь. У моего сына то же, что у вас.
Он кивнул. Рот он раскрыл шире, и я увидел, что язык у него рассечён шипами. Булькая, он произнёс:
— Это будет со всеми. Заразно. Все, кто рядом, тоже станут такими. Так говорят… там.
Аня потянула Люка к машине.
— Кто говорит? Где? — спросил я.
Но он побрёл к приёмному покою, и я отпустил: его всё равно опять выгонят.
Дома мы старательно делали вид, что всё как прежде. Люк смотрел мультики, читал комиксы, равнодушный к наростам, которые мы ежедневно подрезали на его лице.
Однажды вечером, укладывая его спать, он спросил:
— Когда я стану деревом, посадите меня во дворе, чтобы я был с вами?
Я опустился рядом, не глядя на кленовый лист, прилепившийся к внутренней стороне его рта.
— Ты не станешь деревом, дружище, — сказал я. — Мы не дадим.
Люк грустно посмотрел.
— Пап, ты не сможешь меня починить.
— Милый, — позвала Аня, потянув меня за руку. — Пойдём.
— Я никому не дам тебя обидеть, Люк, — твердил я. — Не дам.
Аня отвела меня к двери, поцеловала сына.
— Спокойной ночи, малыш. Не думай больше об этом.
Когда мы спустились, она толкнула меня в плечо.
— Так говорить нельзя.
— Почему? Я серьёзно.
— Доктор был прав. Ты сам видишь. И Люк видит.
Мы уже знали о том, о чём говорил старик на парковке: из новостей и Сети. Мы стали зависимыми от информации, жадно ловили каждое обновление, разбирали теории, вновь и вновь.
Сначала заболевали деревенские: фермеры, садоводы. Их семьи рассказывали: близкие приходили домой с листьями, шипами или лепестками, проросшими из ранок.
Конечности ампутировали, ветви вырезали — бесполезно. Деревья были упорны.
Первые заболевшие умирали все.
Некоторые, на поздней стадии, шли в свои сады, вставали среди деревьев, веря, что не умирают, а становятся чем-то иным.
Потом за ними приезжали правительственные агенты — изучать. Родные протестовали, пока заражённых не стало столько, что иначе было нельзя.
Другие, наоборот, бесновались: уничтожали насаждения, винили их в своём недуге и сжигали себя, чтобы убить растения внутри.
Как распространялась Чаща — так прозвали заражённых — неизвестно: прикосновение ли, или споры, дремавшие в каждом, пробуждались рядом с другими.
Районы, где появились первые случаи, изолировали, растительность там уничтожали. Но эпидемия всё равно пробралась в города, где деревьев мало. Учёных приглашали в эфиры, и мнения у них расходились.
Одни думали, что растения через химические сигналы и грибницу выработали атаку на людей. Другие — что это новый паразит, способный копировать облик любой флоры.
Одна учёная, которую вскоре заткнули, заявила: пациенты правы — это ускоренная эволюция человека.
«Заметьте, всё начинается изнутри, — сказала она. — Растения даже похожи на своих носителей. Мы не должны уничтожать этих людей, а почитать то, чем природа решила их сделать».
Это вызвало волну насилия. Мы с Аней смотрели, как толпы поджигают леса, некоторые поджигатели сами наполовину из древесины, вопят от боли.
Репортёр обращался к ним:
— Нам нужны деревья: они дают топливо, материалы, кислород. Сжигать их — разумно ли?
Парень в балаклаве пожал плечами:
— Или они, или мы.
— Но это и нас погубит, — пытался ответить журналист, но тот уже ушёл.
Со временем появилась новая группировка. Они утверждали, что создали химикат: инъекция, ванна или настойка — убивает растение, человека оставляет. Многие называли это зелье пустышкой, ядом.
Тем не менее люди тянулись к нему: всё равно умирать.
Власти пытались запретить, но когда богачи прятались в бункерах, а мстители жгли Чащу, контролировать уже было нечего.
Мы держались рутины, чтобы не сойти с ума. Прятали новости от Люка, гасили экраны, но нередко я находил его ночью у телевизора: он смотрел репортажи и лениво ковырял лист, опять вырастающий из глаза.
Однажды утром его не оказалось в постели. Я искал по всему дому, пока не признался Ане: его нет внутри.
— Куда он мог уйти? — дрогнувшим голосом спросила она.
Мы одновременно посмотрели на заднюю дверь: она была распахнута. Мы подошли, не желая увидеть то, что видели тысячу раз в новостях.
Аня издала звук — не крик, а утробный стон. Я вышел на газон, словно должен был убедиться в реальности ужаса.
Люк — точнее, то, что от него осталось — стоял на коленях. Его тело удерживало дерево, проросшее через горло; позвоночник служил шестом, тянувшим его к солнцу. Руки безвольно свисали, а глаза…
Я не мог смотреть ему в глаза. Размывал взгляд специально.
Пока Аня рыдала у двери, я пошёл к сараю, надел толстые перчатки и взял лопату. Подходя к сыну, услышал:
— Что ты делаешь? — всхлипнула она.
— Похороню. Ритуальные дома не возьмут, а правительственные люди или мстители скоро придут. Так лучше.
Я сжал рукоять, пытаясь представить тело куклой или чучелом.
— Алекс, — умоляла Аня. — Оставь. Это то, чего он хотел.
— Это то, чего хотело оно! — огрызнулся я. — Оно через его мозг заставило его умереть тут. Не понимаешь?
Она смотрела, слёзы текли молча. И я не тронул его. Не из-за неё — от отвращения.
Мы оставили Люка, и дерево расправило ветви. Жалюзи на той стороне дома я опустил. Думаю, соседи тоже.
Однажды я подглядел: Аня стоит у клёна и говорит с ним, как с сыном. Листья на черепе складывались в подобие лица.
Спустя месяц мы лежали в постели, измождённые горем. Проводя ладонью по спине жены, я ощутил что-то острое под лопаткой. Я выдернул и вскрикнул.
— Что? — спросила Аня.
— Ничего, — солгал я. — Сводит. Пойду разомну.
На кухне, закрыв дверь, я взглянул: в руке был кленовый листок — первый знак, что растение уже в ней. А значит, и во мне. Я опёрся о столешницу и зарыдал, как ребёнок: по сыну, по жене и по себе, ведь я тоже умирал, не зная, сколько осталось.
До этого я не понимал, как заражённые не чувствуют, что внутри них что-то растёт. Думал, они просто игнорируют симптомы. Теперь понял: стоило узнать — и я почувствовал. Чужая жизнь тянулась сквозь мышцы к мозгу, и часть меня воспринимала её как собственную. Теперь я видел, почему одни смирялись, веря в новое, лучшее существо.
Аня будет из них. Она умерла вместе с Люком. Возможно, когда клён сомкнётся вокруг её сердца, она выйдет к нему во двор, и их деревья прорастут вместе.
Но я решил иначе. В лицах протестующих на экране я видел себя. Я разузнал, где торгуют тем химикатом. Скоро я введу его себе и Ане, подожду, убьёт ли он врага внутри. А если нет — прости, Господи, но я сожгу клён, пожирающий останки моего сына, а потом и нас с женой.
Мир тонет в лесных пожарах, но я выберу такой конец: в ярости, оставаясь мужем, отцом.
Человеком.
Больше страшных историй читай в нашем ТГ канале https://t.me/bayki_reddit
Можешь следить за историями в Дзене https://dzen.ru/id/675d4fa7c41d463742f224a6
Или даже во ВКонтакте https://vk.com/bayki_reddit
Можешь поддержать нас донатом https://www.donationalerts.com/r/bayki_reddit