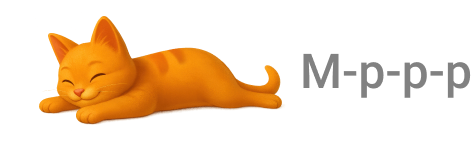Хозяин кафе, чья летняя веранда упирается в разрисованную теперь стену, матом орет на художников — по новому закону изображать курение нельзя. Один из парней, заскочив на приставную лестницу, аккуратно исправляет рисунок, сигарета исчезает, превращаясь в чашку кофе. Парень, довольный работой, спрыгивает на асфальт и сдирает с лица респиратор. Мы встречаемся с ним глазами.
Через десять минут он уже сидит за моим столиком, и я заказываю ему воду, два «Наполеона» и кофе.
— Клиенты не могут находиться в кафе без одежды, — раздраженно бросает ему официантка, приняв у меня заказ.
Девушка явно ревнует, и я ее понимаю — он моложе меня. А он устало ухмыляется и натягивает футболку на еще не высохшее тело.
— Вы знакомы? — киваю на ушедшую девушку.
Он улыбается и качает головой — нет. Снимает бейсболку и надевает ее козырьком назад. Я вижу его глаза: в них плещется серый, зеленый и коричневый, словно природа так и не смогла определиться… Откуда-то из глубины воспоминаний всплывают эти глаза.
— Этого не может быть! — Я помню эти глаза, но…
— Этого не может быть в твоей системе координат, но что ты знаешь об этом мире?
Подходит официантка, ставит перед ним бутылку воды, торт, коньяк и… Девушка, глядя на парня, берет рукой не блюдце, а ручку кофейной чашки — как так случилось, что блюдце летит с подноса и раскалывается на несколько частей, никто так и не понял. На мощеной булыжником территории кафе лежит разбитое сердце.
— Хм, вот как, — хмурится парень и смотрит на мою кофейную пару — чашки и блюдца в этом кафе имеют форму сердечек. — Ты разобьешь мне сердце, а твое останется целым?
Вытаскиваю блюдце из-под своей чашки и бросаю рядом с осколками.
— Включите в счет обе кофейные пары, — уверенно говорю я.
Мне нравилось просыпаться раньше него, смотреть на море за стеклом, теребить его черные кудрявые, как у цыгана или итальянца, волосы, скользить пальцами по золотистой коже, нежно прикусывать шею, целовать позвонки на спине…
На белом холсте стены он нарисовал осенний Булонский лес. А может, это был и не парк в Париже, а просто лес, тесно прижавшийся к старинному городу.
— Почему ты думаешь, что там, за деревьями, город? — спросил он, покрывая позолотой некоторые листья на переднем плане.
— Там, за поворотом, обязательно должен быть дом. Наш дом, в котором мы с тобой состаримся и умрем.
— Мы? — он обернулся. На его правую бровь прилипла золотая пыльца, которая, осыпавшись, позолотила ему ресницы. Я вдруг заметила, что на второй брови у него пара седых ворсинок, а на висках несколько серебряных бликов. — Мы не можем умереть, как все, — вздохнул он. — Мы бабочки, живем ярко, но коротко. Наши встречи — обязательное условие каждой нашей жизни. Наша любовь — легенда. В каком времени мы всплывем в следующий раз — загадка.
Мне стало страшно — вдруг все, что он только что сказал, правда. Я ведь не помню свою жизнь до этой весны.
— Я был очень беден, а ты устала ждать и пошла замуж за богатого. Я убил себя до твоего венчания, а ты — перед брачной ночью с другим.
— Я виновата? — мои ноги подкосились, и я села на кровать.
— Нет. — Он положил палитру и кисточку на пол, сел у моих ног и прижался головой к моим коленям. — Я ведь понимал, что ничего не смогу тебе дать, но мое желание быть с тобой было так велико, что я признался в любви, и ты ответила мне взаимностью.
Я крутила на палец его локоны и молилась, чтобы все, что он сказал, было просто красивой сказкой, метафорой.
— Поэтому ты и не помнишь…
Я подняла его голову за волосы и взглянула в его глаза. Он плакал. Из серо-зелено-карих глаз беззвучно текли слезы.
Я проснулась, едва начало сереть небо. Повернулась к нему, но его не было рядом. Сердце заболело так остро, словно его ранило осколком того самого фарфорового блюдца из летнего кафе.
Я застонала, и кто-то погладил мою ногу.
Боль ушла, и я села на кровати. Он сидел спиной ко мне, одетый в пятнистую военную форму. Страх сжал меня в пружину, мне не хватило воздуха — я распрямилась, бросившись к нему, обхватила руками за плечи, уткнулась лицом в затылок.
Его волосы! Он был коротко стрижен. Ежик волос уколол мои губы.
— В этом мире ты разбила мне сердце, а твое осталось целым. Зачем убивать себя, если можно умереть на войне.
— Где-то она всегда есть.
Он надел на голову фуражку, встал, закинул на плечо ремень автомата и вошел в свою картину. А я сидела и смотрела, как по тропинке Булонского леса от меня удаляется нарисованный солдат. Это было так странно, словно ожил мультфильм. Дорожка петляла, огибая озеро, и он становился все меньше и меньше, пока не стал всего лишь мазком, крохотным пятнышком цвета хаки. Я вглядывалась в него, старалась разглядеть детали, не отпускать его как можно дольше. Но все равно пропустила момент, когда он исчез за поворотом.
Почему я согласилась, чтобы он нарисовал лес? Он совсем не подходит по цвету к другой стене. Словно эта комната теперь соткана из двух душ — моей и его.
Я смотрела на бушующее море, на облака, набрякшие свинцом и не отличавшиеся цветом от воды. Иногда вода и небо сливались в одно целое, единую плоть, которую пронизывали молнии. Гремел гром, но мне казалось, что это грохочут пушки. Я думала о нем и видела его постаревшим, седым, уставшим, с мешками под глазами и морщинами, изрезавшими лицо. Как ни пыталась, но не могла вспомнить его тем мальчишкой в кафе, где разбились на самом деле оба наши сердца.
Мне с трудом удалось встать и добрести до ванной.
Сколько мне было в момент нашей встречи? Двадцать пять? Тридцать?
А сейчас на меня из зеркала смотрела женщина, прожившая более полувека. Это не могу быть я. То не может быть он.
Бутылка вина, два бокала, пустынный пляж. Сезон закончился. Море ежилось мелкой рябью осенних волн. Солнце еще светило, но из-за горизонта по небу тянулись грязные тучи. Я села в пока еще теплый песок.
Волна неспешно ползла к ногам, пенилась. Мне казалось, что море ругается на меня, предсказывает беду, проклинает.
Вздрогнула, когда ветер холодной тканью скользнул по шее, нахально забрался под платье. Попыталась открыть бутылку, пробку из которой выкрутила дома, а потом опять наполовину забила в узкое горлышко, но не смогла.
— Вам помочь? — скрипучий голос на время заглушил тихие проклятия волн.
Я обернулась. В паре шагов от меня стоял старик, держа в руке потертый временем чемодан странной формы.
— Будьте так добры, — я протянула ему бутылку.
Старик поставил свой чемодан, взял у меня из рук бутылку и легко открыл ее. Я протянула два бокала. Он не пришел, выпью хоть со стариком.
Красное вино — как слезы сердца.
Мы молча пили. Я — сидя на песке — и старик — на своем чемодане. Я была так ему благодарна за тишину.
С некоторыми людьми комфортно молчать. Они вовремя наливают вино, в их кармане всегда работающая зажигалка.
Так хорошо мне было только с ним. Я переставала беспокоиться, куда-то спешить. Жила как у Бога за пазухой, у мамы на руках, у отца за спиной. До определенного момента родители для нас боги. А я не помнила своих родителей. Меня изгнали из рая даже в воспоминаниях.
Я повернулась к старику и увидела, что одна из штанин его темно-серых брюк задралась, обнажая протез. Сразу стало страшно.
— Хотите, я вам сыграю? — предложил старик и вернул мне пустой бокал.
Правильно приняв мое молчание за согласие, он открыл свой странный чемодан, на самом деле оказавшийся футляром для аккордеона. Пальцы, разминаясь, пробежали по клавишам, и инструмент начал лить звуки.
В этот час ты призналась,
Я закрыла глаза и вспомнила, как стояла на площади среди полсотни женщин и гармонист без одной ноги в военной форме с лихо заломленной на ухо пилоткой играл это танго, а несколько женщин кружились, танцуя без мужчин.
Я гладила тяжелым железным утюгом черную косынку, а из репродуктора лилась эта песня.
Я сидела в кинотеатре, смотрела сказку, он держал меня за руку и объяснял ее страшный и совсем недетский смысл, а утомленное солнце так нежно прощалось с морем, что мое сердце разрывалось фарфоровыми осколками.
Мы проживали жизни людей, чья любовь закончилась трагедией.
— А вы знали, — вытащил меня из воспоминаний старик, — что в одном из первых вариантов эта песня звалась «Танго самоубийц»? Девушка предала возлюбленного и вышла замуж за богатого, и вот парень просит…
Я сорвалась и побежала. Тело отозвалось болью — щиколотки, колени, поясница. Закололо в боку, защемило сердце.
Сколько мне лет? Ведь еще вчера я была молода.
Я стою перед его картиной, не решаясь войти. Он ушел туда воевать. Где-то там война и убивают, а на моей стороне утомленное солнце нежно прощается с морем.
Шаг внутрь, в глубину, в игрушечный мир грубых мазков — и вот я уже нарисованный персонаж. Я могу уйти той же дорогой, по которой ушел он.
Все вокруг черное и белое, кроме позолоченных листьев, оставшихся у меня за спиной на переднем плане. В нарисованном мире ничего не болит, не шумит, не поет.
Птица беззвучно скользит меж веток, ветер бесшумно качает кусты. Хоть бы какой-нибудь звук!
В этой нереальной тишине я иду по дороге, без звука ступая босыми ногами. Огибаю озеро, углубляюсь в лес.
Я оказалась права — за лесом был город. Сразу, без перехода. Проезжает машина, и мне включают звук — резкий звук клаксона, — и я вдруг вспоминаю свист, с которым летит бомба. Она падает, и после нее опять выключают звук.
Опять клаксон. Вздрагиваю.
Перебегаю дорогу и вижу ту самую улочку, которую он нарисовал в кафе. Девушка на балконе поворачивает голову, поджигает сигарету и выпускает дым. Цвет! Я слышу не только звуки, но вижу и цвет. Все как взаправду, только мир вокруг по-прежнему нарисованный.
Неожиданно из открытого окна до меня доносятся аккорды танго. Наше танго утомленного солнца.
Дотрагиваюсь до простой деревянной двери, выкрашенной синей краской, и та тихо открывается. Без приглашения вхожу внутрь. В комнате на стуле висит китель в орденах, рядом стоят начищенные до блеска сапоги. Патефон играет танго по заезженной скрипучей пластинке, и мне кажется, что игла извлекает звуки из моего сердца.
В соседней комнате начинает литься вода. Два шага — и я вижу, как, склонившись над умывальником, мужчина смывает с лица остатки пены.
Он выпрямляется, и… в зеркале его глаза, в них причудливо перемешаны серый, зеленый и коричневый, словно Вселенная смешивала цвета на палитре, раздумывая — что же ему дать. Вокруг глаз — лучики-морщинки, которые у него были только тогда, когда он смеялся, а сейчас они навсегда. Он поворачивается и молча смотрит на меня, теперь уже без зеркала. Сколько ему? Пятьдесят? Больше?
— Где потерялись наши годы?
— Мы прожили их в чужих жизнях.
Обнаженный по пояс, с полотенцем через плечо, он подходит ко мне так близко, что я слышу запах свежего мыла и тонкий аромат табака, хоть тот парень, которого я встретила, не курил. На плече у него шрам, справа под ребрами еще один. Я трогаю шрамы пальцами, чувствую рубцеватую ткань и тепло кожи и вдруг понимаю — мы опять люди, а не нарисованные персонажи.
— Что когда? — удивленно переспрашивает он, взяв меня за подбородок.
— Когда была наша история?
В сороковых годах не было бедных и богатых. Что-то тут не так.
— Перед Первой мировой войной, — уточняет он и трогает пальцами мой лоб, разглаживая вертикальные морщинки серьезности и боли. Он ведет пальцы вверх, нежно гладя мою кожу, исцеляя от болезни времени. Это все те же пальцы, что еще недавно, но совсем в другой жизни были перепачканы краской. — Уже неважно когда. Главное, что мы научились верить и ждать. Верить, что вернешься, и ждать, сколько бы времени ни прошло, хоть до следующей жизни.
— Почему ты думаешь, что мы научились?
— Ты никогда раньше меня не находила. Теперь все будет иначе.
— Да, — он кивает и прижимается ко мне губами, не целуя. — Только в этот раз ад у нас общий.
«Мне немного взгрустнулось — без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться, виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви».