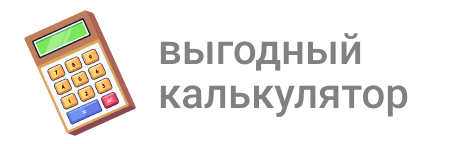Учись чтобы работать - работай чтобы оплатить еду , жилье, машину и бытовую технику - отправь детей учиться чтобы они продолжили этот путь и на этом жизнь заканчивается. Ты заплатил налог - можешь спать спокойно...
История человеческой цивилизации редко развивается прямолинейно, и ещё реже она строится на искренности. Политические лозунги, социальные конструкции, обещания будущего - всё это чаще напоминает витрину магазина, за стеклом которой лежит тщательно выверенная, но всё же ограниченная правда.
XX век, возможно, наиболее ярко иллюстрирует эту двойственность, когда на арене мировой истории столкнулись две гигантские системы - Советский Союз и Соединённые Штаты Америки. Они позиционировали себя как противоположности, как носители несовместимых ценностей, как альтернативы, между которыми якобы должен был выбирать мир. Но чем глубже всматриваешься в судьбу обычного человека, тем явственнее проступает парадокс: несмотря на несовместимость лозунгов, несмотря на идеологическую вражду, мечты и пути миллионов людей по обе стороны этой искусственно натянутой линии оказывались удивительно похожими.
Учись чтобы работать - работай чтобы оплатить еду , жилье машину и бытовую технику - отправь детей учиться чтобы они продолжили этот путь и на этом жизнь заканчивается. Ты заплатил налог - можешь спать спокойно.
Америка с её культом индивидуализма, предпринимательства, веры в успех, который достигается личным трудом, представляла собой символ возможности.
Образ американской мечты, рожденный ещё в первой половине XX века, обещал каждому - будь то фермер, эмигрант, рабочий или студент - путь к собственному дому, финансовой стабильности, социальной независимости.
Этот образ питался историей освоения новых земель, эпохой промышленного подъёма, революцией в производстве, когда конвейеры Ford и массовое строительство превращали некогда элитарные символы достатка - автомобиль, дом и бытовую технику, в вещи доступные широким слоям населения. В этой модели жизни ключевым условием успеха становились упорство, амбиции и готовность играть по правилам системы.
И пусть эти правила строились на рыночных отношениях, конкуренции и неизбежной зависимости от экономики, миллионы людей принимали их как естественное поле своего существования.
Советский Союз, напротив, отбрасывал идею личного успеха как самоцель. Здесь во главу угла ставился коллектив, общий труд, общественное благо. Лозунги советской пропаганды превозносили шахтёров, учёных, доярок, инженеров, героев космоса и фронта - всех тех, кто, по официальной версии, создавал фундамент нового, справедливого мира, лишённого эксплуатации, бедности, классового неравенства. Формула «от каждого по способностям, каждому по труду» звучала как моральный и социальный идеал, противопоставляемый капиталистической гонке за прибылью.
Однако за внешним величием и благородством слов реальность жизни советского человека неизбежно сползала к вполне конкретным, бытовым мечтам: получить собственную квартиру, даже если это будет стандартная двухкомнатная «хрущёвка» с тонкими стенами; обзавестись личным автомобилем, иметь возможность отправиться летом на Чёрное море или хотя бы на дачу; приобрести хороший телевизор, холодильник, дефицитные сапоги, мебель. Словом, стремление к личному удобству, стабильности и элементарному комфорту не исчезало, даже если официальная идеология пыталась представить это как нечто второстепенное или даже буржуазное.
Любопытно, что в американской модели, несмотря на декларируемую свободу выбора, путь к мечте тоже был чётко выстроен системой. Человек был свободен лишь в пределах, очерченных рынком, банками, работодателями. Получить дом - значит взять ипотеку. Иметь достойный автомобиль - значит подписать кредитный договор. Обеспечить образование детям - значит включиться в систему займов и обязательств. Свобода казалась абсолютной, но на деле оборачивалась глубокой зависимостью от экономических механизмов, которые формировали не только возможности, но и ограничения.
Советский человек, со своей стороны, зависел не от кредитного рейтинга, а от бюрократических структур, партийных распределителей, системы дефицита и, конечно, от «своих» людей - тех самых связей, которые открывали доступ к лучшему жилью, к товарам, к путёвкам, к повышению по службе. Формально путь к достатку был построен на трудовых заслугах и лояльности к системе, но за кулисами этого спектакля процветала другая реальность - где успех зависел от близости к партийной вертикали, от умения маневрировать в лабиринте советской экономики, от способности быть «в теме».
Таким образом, несмотря на диаметрально противоположные внешние оболочки, обе системы сужали человеческое стремление к мечте до стандартного набора вполне материальных благ, доступ к которым контролировался либо рынком и кредитами, либо партией и распределением. И там, и там личное счастье человека оказывалось встроено в систему, которая чётко определяла границы допустимого, правила игры и механизмы вознаграждения.
На первый взгляд, разница между этими двумя мирами казалась очевидной. В Америке сохранялась иллюзия свободы выбора - можно было менять место жительства, работу, политические взгляды, даже публично критиковать власть, пусть и в пределах культурно допустимого поля. В Советском Союзе за подобную вольность следовали серьёзные последствия: административные взыскания, общественное порицание, а нередко и репрессии. Но если смотреть не на плакаты и законы, а на повседневную жизнь простого человека, различия постепенно размывались.
И там, и там утро начиналось с одного и того же - ранний подъём, дорога на работу, попытка обеспечить семью, мечты о лучшем будущем для детей. Американец смотрел рекламу новых автомобилей и планировал покупку. Советский человек слушал знакомого, которому удалось записаться в кооператив на «Жигули», и тоже строил планы. В обоих случаях система формировала образ правильной жизни - дом, машина, семья, социальное признание, и направляла усилия человека к его достижению, искусно балансируя между реальностью и иллюзией доступности.
Этот парадокс - схожесть человеческих устремлений при разности идеологий говорит о многом, и прежде всего о природе самой системы, которая, независимо от политического окраса, всегда стремится упорядочить, стандартизировать, сделать контролируемыми не только поведение, но и мечты своих граждан. Ведь мечта, направленная вовне, за пределы системы, становится опасной. Она способна порождать неудовольствие, инакомыслие, стремление к изменениям, а значит - к непредсказуемости. Поэтому любая система, будь то капиталистическая или социалистическая, стремится создавать и поддерживать те мечты, которые, с одной стороны, дают человеку иллюзию выбора и перспективы, а с другой - не выводят его за пределы безопасного для власти и экономики русла.
В этом и заключается глубокий философский урок XX века: независимо от политических лозунгов, настоящая свобода и подлинный смысл человеческой жизни начинаются там, где человек выходит за рамки навязанных моделей мечты. Там, где он осмеливается задуматься, действительно ли его стремления принадлежат ему самому, или же они - искусно встроенная часть социальной конструкции.
Можно сколько угодно спорить о преимуществах и недостатках капитализма и социализма, о том, где лучше уровень жизни, где выше права человека, где доступнее медицина и образование. Эти споры не бесполезны, но они касаются внешней стороны бытия. Куда важнее задать себе другой вопрос: возможно ли в рамках любой системы сохранить в себе то пространство внутренней свободы, которое не продаётся ни за ипотеку, ни за место в партийной иерархии, ни за телевизор, ни за дефицитные сапоги? Пространство, в котором живут не стандартизированные мечты о холодильнике или автомобиле, а более глубокие, истенные устремления - к смыслу, к достоинству, к внутренней независимости от диктата времени и общества, к безусловной любви и добродетели ко всему живому.
Именно этот вопрос, возможно, остаётся единственным настоящим выбором для человека, который хочет прожить свою жизнь не как винтик системы, а как существо, способное к осмыслению, к выбору и к ответственности за свою мечту.