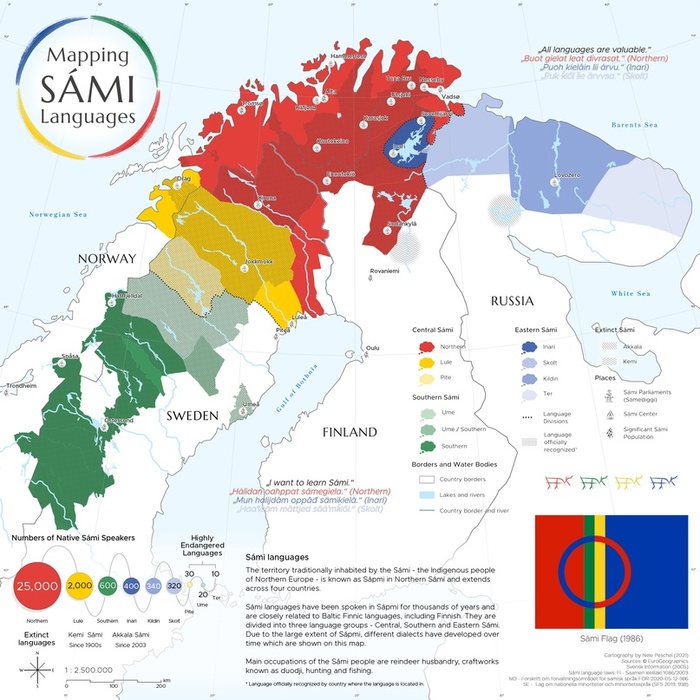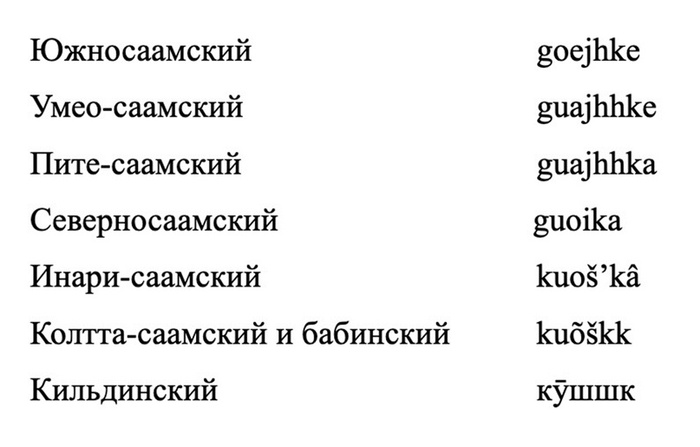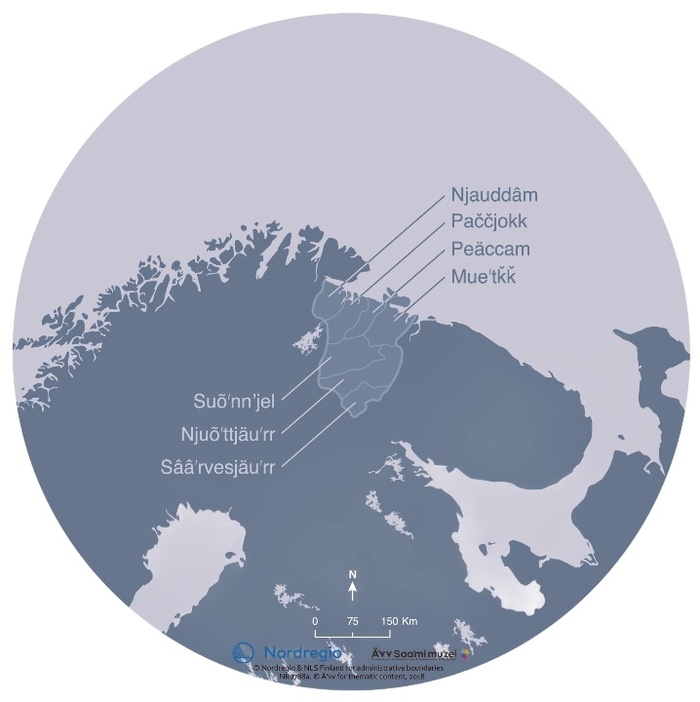Легенда северного флота подлодка Щ-421 и её невероятное спасение: парус на перископе просто так не поднимают!
В честь 80-летия Дня Великой Победы самое время вспомнить подвиги тех, кто сражался в то наполненное запахом пороха и крови время, отдавая за свободу Родины жизнь.
Тем более отрадно, когда среди ярких страниц великих побед и подвигов нашлось место и твоему предку, в моем случае деду по отцовской линии Чурносову Павлу Григорьевичу.
Итак, жизнь моего деда, рожденного в старинном поморском селе на родине Михайло Ломоносова (по семейным легендам светило отечественной науки и поэзии является нашей родней))) в селе Курья на берегу Северной Двины, началась в непростое для страны время в 1920 году. Он был рожден в неполной семье и воспитывала его только мать с теткой. С детства он грезил небом, мечтая стать летчиком, однако все свободное время проводил на Северной Двине уже в раннем возрасте совершая с товарищами весельные и парусные сплавы вверх и вниз по течению длительностью до недели. Видимо, это и предопределило его судьбу, когда после окончания основной школы летом 1936 года в возрасте 15 лет ему было отказано в поступлении в авиационную школу (в РОНО отказали по причине малолетства - на авиаторов брали только с 17 лет): дед без раздумий подал документы в Архангельский морской техникум на судоводительское отделение.
По окончании техникума, получив документы на звание судоводителя дальнего плавания, летом 1940 мой юный пращур отправляется в распоряжение отдела вспомогательных судов Северного флота. В сентябре 1940 дед был призван на службу в ряды Военно-морского флота и направлен на учебу в Краснознаменный отряд подводного плавания имени С.М. Кирова в Ленинграде, где дед проучился целый год. В августе 1941 года как уже имеющего опыт морских походов его направляют на подводную лодку 12 серии, спущенную на воду в канун войны и получившей литерное название «М-175». Именно на этой подлодке дед получает подводное боевое крещение в схватке с нацистами, с конца лета и на протяжении всей осени 1941 попадая в стычки с силами противника разной степени тяжести.
К весне 1942 года, дед уже как бывалый моряк-подводник вместо заболевшего товарища переходит на службу в состав экипажа подводной лодки Щ-421, получившей всесоюзную известность своим подвигом, который впоследствии был увековечен в автобиографической книге капитана славной подлодки Колышкина Ивана Александровича «В глубинах полярных морей» в главе «Парус на перископе». Эти военные мемуары была выпущена в 1964 году в военном издательстве Москвы, а затем переизданы в 1970, что говорит о популярности подобной тематики среди читателей страны Советов. Обратила внимание на то, что в книге не раз мелькает страшная фраза: «Ко всему привыкает человек, даже к войне». Совсем как сейчас, не правда ли?
Этот момент жизни был самым ярким в жизни деда и, если бы не исключительное везение, слаженность действий команды и удачное стечение обстоятельств, вашей слуги, пишущей эти строки, могло и не быть, а дед из того похода так и не вернулся. Но обо всем по порядку.
Среди задач стоящими перед подлодками северного морского флота в годы войны было не только ведение военных действий в нейтральных и вражеских водах, защита своих подводных рубежей, а самое главное обеспечение невредимости легендарных Северных конвоев, поставлявших военную помощь по ленд-лизу от союзников с августа 1941 по май 1945 в северные порты нашей страны (Мурманск и Архангельск). Именно по этой причине мой родной Архангельск, находившийся далеко от физической линии фронта подвергался многочисленным нападениям с воздуха фашистских захватчиков и получил звание города Воинской славы, о чем я подробно рассказывала в одной из своих статей.
Итак, боевой поход, принесший боевую славу подлодке и всему ее экипажу, начался в порту Мурманска 20 марта 1942 года. Среди костяка экипажа в основном бывалые морские волки, получившие закалку еще в период русско-финской войны, молодых всего несколько человек, среди которых значится и мой дед 21-летний парень, только начавший свою морскую карьеру. Основная задача похода обеспечение прикрытия Северных морских конвоев, которые с разгаром войны идут в порты Мурманска и Архангельска все чаще и чаще. Вот и в этот раз Щука, как любовно в морской среде прозвали подлодку Щ-421, идет сопровождать арктический конвой PQ-13.
3 апреля радист принял сообщение о награждении Щ-421 орденом Красного Знамени и присвоении ее бывшему командиру Николаю Александровичу Лунину звания Героя Советского Союза. К этому времени экипаж потопил уже 8 вражеских транспортов.
Задача и этого военного похода Щ-421 была выполнена на отлично, противник не появлялся, и капитан подлодки решает для оправдания боевого выхода идти на коммуникации врага кошмарить противника к берегам Норвегии. На время этого похода управление боевым кораблем опытный капитан Иван Колышкин передает молодому капитан-лейтенанту Федору Видяеву. В ходе боевой вылазки в районе Парсангер-фьорда 28 марта удается потопить успешной подводной атакой военный корабль противника. Снова открытое море, где после удачной вылазки рыщет наша зубастая Щука, но 8 апреля в районе того же Парсангер–фьорда удача изменяет ей. Подлодка нарывается на расставленные вокруг ловушки в виде подводных мин и подрывается, получив значительные повреждения. Детонация 40-килограммовой подводной мины с романтичным названием «Ursula-B» полностью разрушает кормовую часть подлодки.
Чудом удается сохранить жизнь всему экипажу, хотя по суровым законам моря поврежденный шестой отсек, куда хлещет ледяная океаническая вода с отключенным электричеством, наглухо задраивают. Задраивает не кто-нибудь, а мой дед, руководствуясь суровыми морскими правилами. Оказавшиеся в аварийной части субмарины шесть человек должны были, рискуя собственной жизнью в темноте под зловещий звук клокотания ледяной за бортовой воды, задраить пробоины или погибнуть. Такова была цена жизни всего экипажа.
В шестом отсеке в темноте развернулась борьба не на жизнь, а на смерть. Вскоре капитану Видяеву доложили, что места пробоин корпуса надежно заделаны, а воду из трюма полностью откачали. Командир приказал запустить двигатель, но лодка не тронулась. Пришлось в ледяной воде в изолирующих аппаратах обследовать состояние винтов. К сожалению, из-за сильного волнения этого не удалось и двух членов экипажа чуть не потеряли в штормящем море.
На самом деле вражеские мины в действительности сильно повредили рубочный люк, верхнюю палубу, а самое главное гребные винты, что сделало дальнейшее продвижение невозможным. Об этом было доложено по радио командующему Северным флотом. Обстановка для легендарной Щуки сложилась угрожающая: подлодка находилась вблизи вражеского берега, и морским течением и ветром ее сносило все ближе к арт-точкам врага. Погружаться, не имея хода, она не могла. В перерывах между зарядами снега хорошо просматривались подступающие берега вражеской территории: мыса Нордкап и Хельнес.
Спасло ситуацию только штормящее море и беспрестанные заряды снега, снижавшие видимость с берега. Однако и далее полагаться на удачу было бессмысленно и опасно для жизни: при таком раскладе раненую субмарину море просто вышвырнуло бы на берег под нос врагу. Дальнейший трагический исход такого развития событий понятен без лишних объяснений.
Помощник командира лодки капитан-лейтенант А. М. Каутский предложил неожиданно смелое решение: соорудить из дизельных чехлов парус, поднять его на перископы и попытаться уйти в сторону моря. Вскоре боцман и рулевые вручную изготовили самодельный парус, который незамедлительно подняли на перископы. Лодка стала понемногу удаляться от берега. Штурман подсчитал, что скорость раненой Щуки под самодельным парусом составляла 2-2,5 узла (примерно 4 с небольшим километров в час), не велика скорость, но ее хватило, чтобы выбраться из зоны видимости фашистских прибрежных дозоров.
Более полудня подорванная субмарина шла под парусом, верно продвигаясь заданным курсом на север. И все это время все члены экипажа были в полной боевой готовности к немедленному применению оружия. Моряки подводники твердо решили дать последний бой, но в плен врагу не сдаваться. Когда появлялись вражеские самолеты, парус на перископе спускали, чтобы не обнаружить местонахождение подбитой Щуки.
Наконец поступила радиограмма, что на помощь идет подлодка К-22, любовно прозванная в среде моряков Катюшей. Это было 10 апреля: целых два дня экипаж подбитой Щуки сражался за выживание в ледяных водах Баренцева моря. Море сильно штормило. Все попытки завести буксирный конец для транспортировки поврежденного судна заканчивались крахом. В небе в который раз появился вражеский самолет. Улетевший в сторону берегу. Это грозило смертельной опасностью как для раненой Щуки, так и для спасателя К-22 и их экипажей. Оставаться дальше рядом с поврежденной обнаруженной лодкой было нельзя. Наконец командир субмарины К-22 капитан 2 ранга В.Н. Котельников передал Колышкину и Видяеву решение Военного совета Северного флота, что в случае невозможности буксировки старая добрая Щука должна быть потоплена. Сложно представить, как такое решение тяжело далось капитанам: это все равно, что утопить свое родное детище.
После обнаружения лодок вражеским самолётом, который сбросил несколько бомб, Экипаж Щ-421 в экстренном порядке в полном составе из 43 человек перешел на К-22. К тому времени вдали уже показались вражеские корабли – нужно срочно было погружаться. Замыкали авральный переход командиры дивизиона и подлодки. К-22 отошла от борта Щ-421 и выстрелила в нее торпедой. Непобежденная Краснознаменная лодка Щ-421 с развевающимся на ветру красным флагом погрузилась навечно в ледяные объятия Баренцева моря недалеко от устья Парсангер-фьорда. Этот трагический момент военных событий был запечатлен на картине художника мариниста Александра Юрьевича Заикина на полотне «Встреча подводных лодок К-22 и Щ-421».
10 апреля К—22 вместе со спасенным экипажем прибыла на базу в Полярном, где весь находчивый и слаженный экипаж подводной лодки был награжден медалями «За боевые заслуги».
Отличившийся капитан Федор Видяев вскоре получит уже в самостоятельное командование новой подлодкой Щ-422. Мой дед тоже должен был присоединиться к его экипажу, но по счастливой случайности он в него не попал: в июле 1943 года отважный молодой капитан вместе с Щукой-422 и ее экипажем пропадет без вести на безбрежных просторах Баренцева моря.
После славного боевого похода на печально известной Щуке летом 1942 дед был командирован в Школу беломорских юнг на Соловках, где проводил обучение подрастающих матросов до ноября 1942 года. А с весны 1943 года был направлен в должности штурсанского электрика на ледорезное судно «Литке», на котором прослужил вплоть до мая 1944 года. Суда этого типа занимались проводкой северных конвоев в восточном секторе Арктики в пос. Тикси. А с лета 1944 года попал на минный заградитель «Мурман», на котором прослужил до момента своего увольнения из военного флота в 1947 году. Вся дальнейшая жизнь деда была тесно связана с морем, и впоследствии он сам стал капитаном дальнего плавания, водя корабли по северному арктическому морскому пути. На пенсию он вышел только в 1977 году, до последнего допуска по состоянию здоровья управляя судами.
К сожалению, дед был из тех, кто не любил рассказывать о своих боевых походах и последующей работе, будучи по природе немногословным и суровым человеком с морской закалкой. На мое счастье, дед оставил достаточно подробную автобиографию от 1978 года, на основании которой и была написана эта статья.
На этом раскланиваюсь с наилучшими пожеланиями мирного неба над головой
Всегда Ваша Морозова❤️🩹
Источник публикации:
https://dzen.ru/a/aBemOfV5_mqx5w9p?share_to=link