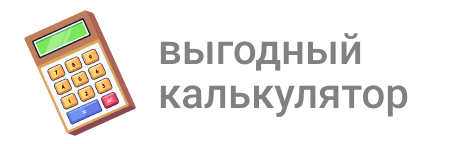Тишина в «Доме Солнца» в эти дни была особенной. Не мирной, а вытянутой, как струна перед разрывом. Воздух казался густым, пропитанным невысказанным, дыханием ожидания и тихой, постоянной болью.
У Ани усилились боли. Даже мощные дозы обезболивающего лишь приглушали ее до тупого, изматывающего фона, на котором вспыхивали острые, жгучие волны. Она почти все время спала. Не крепким, исцеляющим сном, а поверхностной дремою, из которой ее выдергивал спазм или приглушенный звук. Когда она просыпалась, глаза ее были огромными, потемневшими от страдания и лекарств, ввалившимися в синеватые тени. Говорить было тяжело. Слова выходили шепотом, обрывисто, как будто каждое требовало нечеловеческих усилий. Она почти не ела, только смачивала пересохшие губы, а сестра Мария осторожно вводила питательный раствор через катетер.
Макс узнал о новых метастазах почти случайно, подслушав разговор врача с психологом Ириной у поста медсестер. «В позвоночнике, легких… Быстро…» Больше он не слышал, резко развернул коляску и уехал в сад. Но не плакал. Его лицо стало каменным, еще более замкнутым. Он сидел, уставившись в одну точку, пока его не накрыла собственная, знакомая волна боли – острой, костной, с отголоском фантома в отсутствующей ноге. Он стиснул зубы, впиваясь ногтями в подлокотники кресла, пока боль не отпустила, оставив после себя липкий холодный пот и полное истощение.
Теперь он почти не вставал с коляски. Его мир сузился до расстояния между его комнатой и Аниной. Он подъезжал к ее кровати и замирал. Его «Железный Денди», протез, стоял прислоненным к стене в углу – символ былой, хотя и ограниченной, подвижности, теперь ставший ненужным грузом.
Их общение превратилось в молчаливый ритуал. Макс подкатывал, ловил ее слабый, мутный взгляд. Иногда она едва заметно улыбалась уголками губ. Он брал ее руку – такую тонкую, почти прозрачную, с выступающими синеватыми венами. Его собственная рука, обычно сильная и цепкая, теперь казалась огромной и неуклюжей на ее хрупкой кисти. Он просто держал. Иногда осторожно проводил большим пальцем по ее костяшкам. Слова были лишними. Все, что можно было сказать – о страхе, о любви, о несправедливости, о звездах, которые они больше не видели вместе – все это жило в этом прикосновении, в их взглядах, которые находили друг друга сквозь туман боли и морфина.
Разговоры, если и были, то короткие, обрывистые.
— Холодно… — шепнула Аня.
— Лучше? — Макс подтягивал край одеяла.
— Тут. Всегда, — Макс слегка сжимал ее пальцы.
— Да… Но… терпимо. С тобой… терпимо.
Ольга и Дмитрий дежурили поочередно. Ольга, обычно собранная, теперь выглядела разбитой. Она бесшумно двигалась по палате – поправляла подушку, смачивала Ане губы, гладила дочь по голове. Ее глаза были красными и пустыми. Дмитрий сидел, сгорбившись, на стуле у окна. Он смотрел в одну точку за стеклом, но не видел ничего. Его кулаки были сжаты, челюсть напряжена. Он чувствовал себя абсолютно беспомощным, а его мир, и без того сузившийся до стен хосписа, теперь сжался до размеров дочкиной кровати и ее прерывистого дыхания. Иногда он вставал и выходил в коридор, чтобы пройтись быстрыми шагами, сжимая виски, пытаясь заглушить вопль отчаяния внутри.
Мама Макса не приезжала. Он говорил о ней скупо, с горькой усмешкой: «Не выдержала моего вида. У нее своя жизнь.» Эта горечь теперь тоже утонула в общей апатии. Он был один. Кроме нее. Кроме Ани.
Персонал хосписа работал в режиме тихой готовности. Сестра Мария заходила чаще, ее движения были еще более мягкими, взгляд – полным немого сочувствия. Она проверяла капельницы, меняла положения Ани, чтобы избежать пролежней, шептала что-то успокаивающее. Врач Андрей Петрович говорил с родителями тихо, сдержанно, корректируя обезболивание, его профессиональная сдержанность не могла скрыть тяжести в глазах. Психолог Ирина подходила и к Ане, и к Максу, и к родителям, но ее слова сейчас казались далекими, как будто звучащими из-за толстого стекла. Нужны были не слова, а просто присутствие. Тишина. И умение ждать.
Однажды вечером, когда боль на мгновение отступила, Аня проснулась чуть более ясной. Лунный свет серебрил край ее одеяла. Макс сидел рядом, его голова склонилась, он дремал, но его рука по-прежнему держала ее.
— Макс… — позвала Аня едва слышно.
— Я тут. Что? — мгновенно встрепенулся Макс.
Она слабо кивнула в сторону ночника. Макс потянулся, щелкнул выключателем. Мягкий свет залил угол комнаты.
Она с усилием указала взглядом на тумбочку. Там, среди баночек с кремом и салфеток, лежал маленький, старый фонарик. Макс достал его. Батарейка была почти севшая, свет тусклым, желтоватым.
Он направил луч на потолок. Тусклое, дрожащее пятно замерло на белой поверхности. Он навел фонарь на их карту звездного неба.
— «Наша»… Видишь? — едва заметная улыбка тронула анины губы.
— Вижу. Яркая. Самая яркая.
Он водил фонариком по их карте звездного неба, рисуя неуклюжие круги, пытаясь найти их нарисованные созвездия в темноте. Аня следила за дрожащим светом. Ее дыхание было поверхностным, как у птенца.
— Вот «Одноногий пират»… Вот «Тошнотворная»… А вон там… вон «Наша» должна быть…
Луч остановился на пустом месте над ее кроватью, где когда-то был нарисован их символ.
— Там… Она всегда там… Ты же… видишь?
— Вижу, Ань. Я вижу. Ясно вижу. — Макс крепко сжал ее руку.
Фонарик выскользнул из его ослабевшей руки и упал на пол. В палате снова остался только тусклый свет ночника и лунная полоса на полу. Аня уже снова дремала, ее пальцы чуть разжались. Макс не двигался. Он сидел, глядя на ее лицо в полумраке, слушая ее прерывистое, хрупкое дыхание. Боль в его спине нарастала, тупая и неумолимая, но он не обращал на нее внимания. В этой тишине, в этом затишье перед неизбежным, было только одно важное дело – быть здесь. Держать руку. Ждать. И видеть их звезду, даже когда ее никто, кроме них, уже не видел. За окном медленно гасла последняя полоска заката, окрашивая небо черно-синий цвет. В хосписе стояла тишина. Глубокая, тягучая, полная немой боли и немой любви.