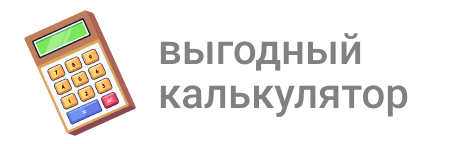Помните автора этих строк? Акмеист, отстаивавший в искусстве точность художественного образа, здесь чуть-чуть… не слукавил, конечно, а подпустил туману, воспользовался, так сказать, многозначностью поэтического слова: вольноопределяющийся, а затем ефрейтор и унтер-офицер лейб-гвардии Уланского Её Величества полка Николай Гумилёв орден Святого Георгия получить по статуту в то время, вплоть до июня 1917 года, не мог, так что поэту, по язвительному выражению Ахматовой, был «подарен крестик», а правильнее сказать, дважды пожалован Знак отличия военного ордена третьей и четвёртой степеней — предусмотренный для нижних чинов Георгиевский крест, в просторечье именовавшийся также «солдатским Георгием» (речь о нём впереди). И если уж так гордился Гумилёв своей заслуженной солдатской наградой, довольно, впрочем, распространённой, что уж говорить об офицерах и генералах, а тем более о полных кавалерах всех степеней настоящего ордена!
Но начнём по порядку — с возникновения награды. Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия был учреждён Екатериной II 26 ноября (по старому стилю) 1769 года. Вовсю шла очередная русско-турецкая война, и потребность в отличии чисто военных заслуг ощущалась особенно остро. В коротком первоначальном статуте императрицей (она же стала первым гроссмейстером ордена) чётко определено: «В числе могущих получить сей орден суть все те, кои в сухопутных и морских войсках Наших добропорядочно и действительно Штаб- и Обер-Офицерами службу отправляют, а из Генералитета те, кои, в войске служа, противу неприятеля отменную храбрость или военное отличное искусство показали».
Особые заслуги награждённых обусловили и особое положение самой награды —вне иерархии орденского старшинства, так что удостоенный «Георгия» находился как бы на отдельном счету, чем объясняется и почёт, оказывавшийся кавалерам всех без исключения степеней, а наиболее, пожалуй, искренний — самой низшей и массовой, четвёртой. Примечательно, что даже эта степень давала своему обладателю право потомственного дворянства.
Впервые в России орден был разделён на четыре степени. Соответственно, несколько менялся и облик награды. Например, размер орденского знака — равноконечного креста с расширяющимися лучами, покрытого белой эмалью. На лицевой стороне в медальоне помещался образ святого на белом коне, прободающий копьём зелёного дракона. Фон красный. На тыльной стороне креста имелся другой медальон, с вензелевыми буквами «СГ», тот есть «Святой Георгий».
Для иноверцев в XIX столетии разработали специальный толерантный дизайн — вместо конной фигуры в медальоне двуглавый имперский орёл. Некоторые, особенно кавказцы, негодовали: «Почему мне дали крест с птицей, а не с джигитом!»
Ко второй степени прилагалась необычной формы ромбовидная звезда, в медальоне которой по кругу шла надпись «За службу и храбрость» — орденский девиз. Крест при этом полагалось носить на шее, а звезду — на левой стороне груди. Первая степень также давала звезду, но предусматривала ещё и ленту через правое плечо — три продольных чёрных и две оранжевых полосы. Это сочетание хорошо известно нашим отцам и дедам: именно так выглядела муаровая лента на колодке советского ордена Славы.
Но то — метаморфозы будущего, сейчас же немного предыстории.
С давних времён Георгий-великомученик под именами Егория и Юрия почитался великими русскими князьями (сохранились монеты и великокняжеские печати с его изображением), а ещё более — всем православным воинством, чьим небесным покровителем он считался. Историчность его едва ли доказуема, хотя в израильском Лоде, бывшем одно время Георгиополем, до сих пор показывают гробницу этого святого. Достоверных свидетельств нет, а вот аргументов против предостаточно. В 1821 году де Планси описал несколько голов Георгия, хранившихся в храмах и монастырях Венеции, Майнца, Праги, Кельна и других европейских городов. Рассказ о казни святого по приказу римского императора Диоклетиана выглядит, скорее, попыткой очернить язычника в глазах потомков. Впрочем, этот император более известен другим своим поступком: завершив так называемый кризис третьего века в Риме, Диоклетиан сначала установил твёрдое правление, отменив давно уже ставший фикцией институт принципата, а затем, в 305 году новой эры, отрёкся от власти и сделался частным лицом. Знаменит ответ бывшего императора о преимуществах выращиваемых им овощей, данный на предложение вернуться и вновь встать во главе Рима. Это, конечно, походит на исторический анекдот, но уж точно не было у Диоклетиана жены Александры, которой якобы отсекли голову заодно с Георгием, когда она стала совестить мужа. То есть жена, конечно, была, но не Александра, а Приска, одно время действительно христианка, но она своего супруга пережила и погибла позднее. Что же касается Георгия, то нам он знаком главным образом благодаря убийству им дракона, опустошавшего древний Левант. Этот подвиг церковными источниками уверенно относится к посмертным деяниям святого.
Продолжим о степенях высших. По традиции первой возложила на себя орденские знаки (первой степени, разумеется) сама госпожа гроссмейстер. Надо заметить, что преемники Екатерины, понимая всю в хорошем смысле слова неформальность «Святого Георгия», всё-таки не баловали себя им — в отличие от некоторых других российских наград эта не стала династической. Правда, Александр II не отказался от креста с белой эмалью, однако тут дело было в дате: в 1869 году отмечалось столетие ордена. Простим царю-освободителю эту маленькую слабость. Что касается полных кавалеров, то их за всю историю было четыре.
Генерал-фельдмаршал светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский. Своего первого «Георгия» будущий победитель Наполеона получил в 1775 году «за мужество и храбрость, оказанные при атаке турецких войск, сделавших десант на Крымские берега при Алуште. Будучи отряжён для завладения неприятельским ретранжаментом, к которому вёл свой баталион с такою неустрашимостию, что многочисленный неприятель спасался бегством, где он получил весьма опасную рану». Не неприятель, конечно, получил рану, а Кутузов — ту самую рану, повредившую ему глаз. В 1791 и 1792 годах Михаил Илларионович последовательно был пожалован третьей и второй степенями «во уважение на усердную службу». В первом случае он отличился при штурме Измаила. Ну и, наконец, в декабре 1812-го светлейший удостоился Георгиевского ордена первой степени — тут уж не надо объяснять за что.
На волковском портрете, в отличие от более известной работы Джорджа Доу, где фельдмаршал украшен голубой Андреевской лентой, присутствуют звезда, полосатая лента и белый крест на ней, почти незаметный за эфесом шпаги, но нет других георгиевских наград. Это объясняется просто: в те времена ещё полагалось при каждом новом награждении сдавать предыдущие знаки в орденский капитул. Позднее порядок изменился, так что нередко на живописных изображениях российских героев можно встретить, например, два белых креста на шее — третьей и второй степеней.
Генерал-фельдмаршал князь Барклай-де-Толли. Михаил Богданович, как известно, является автором гениального стратегического хода — отступления русской армии вглубь собственной территории. Не будь его, где-нибудь перед Смоленском Великая армия Наполеона, ещё довольно свежая и многочисленная, раздавила бы русское войско, чего и при Бородино-то едва не случилось. Кстати, вторую степень Барклай получил именно за это сражение, в котором он командовал правым флангом. А первую — в 1813-м за Кульм. Две же низших степени — за личное мужество, проявленное в боях с французами и поляками.
Генерал-фельдмаршалы Паскевич-Эриванский и Дибич-Забалканский. Оба они несправедливо забыты. Оно вроде бы и понятно: тот и другой усмиряли «свободолюбивых» поляков, а последний ещё и донес Николаю I о заговоре декабристов. Но разве это отменяет взятие Эривани и кровавый урок, преподанный туркам при Кулевче?
Ещё трое были награждены орденом Святого Георгия с третьей по первую степень. Светлейшего князя Потёмкина-Таврического и генерала Беннигсена пропустим — ещё представится подходящий случай рассказать о них. А вот генералиссимус граф Суворов-Рымникский, — другое дело. Великий полководец заслужил своего «Георгия» сразу третьей степени в Польше «за храбрость и мужественные подвиги, оказанные 779 и 771 годов с вверенным ему деташаментом против польских возмутителей, когда он благоразумными распоряжениями в случившихся сражениях, поражая все их партии, одержал над ними победы». Четвёртую степень решено было «пропустить» так как герой уже находился в генеральском чине. Уже через два года «за храбрость и мужественное дело с вверенным его руководству деташаментом при атаке на Туртукай» он получил вторую степень ордена. А первую доставил ему в 1789 году «11 день сентября на реке Рымник».
В ноябре того года Суворов сообщал дочери: «Получил знаки Св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия. Вот каков твой папенька. За доброе сердце, чуть, право, от радости не умер». Эмоции полководца легко понять (заметим, кстати, что драгоценные украшения к «Св. Георгию» в отличие от «Св. Андрея» не полагались — ценность награды и без того была велика). Труднее разобраться в чувстве, обуревавшем партизана и поэта Дениса Давыдова, когда в «Дневнике партизанских действий 1812 года» он писал по поводу своего награждения четвёртой степенью того же ордена: «Уверяли меня, что если бы я тогда (сразу после изгнания Наполеона из России. — М.Л.) потребовал Георгия 3-го класса, то, без сомнения, получил бы его так же легко, как и вышеозначенные награждения. Поистине я сделал ошибку, но ошибке сей причиною было высокое мнение, которое я тогда (курсив автора. — М.Л.) имел о сем ордене: я думал, что я еще не достоин третьего класса оного!». Четвёртый класс — это, разумеется, не третий, а уж тем более не первый, но как могло случиться, что высокое мнение прославленного героя об этой награде оказалось поколеблено? Попробуем разобраться.
До весны 1813-го, то есть ещё в то время, когда наш партизан гордо носил на своём гусарском доломане свежий белый крестик, кавалерами четвёртой степени «Георгия» за сорок три года (считая от февраля 1770-го, после того как именно этой степенью был отмечен премьер-майор Рейнгольд Людвиг фон Паткуль) стали 1195 человек. Позднейшая статистика отсутствует. Но получить низшую степень ордена было возможно и за выслугу лет, прослужив четверть века в офицерском чине. А для морских офицеров необходимым условием являлось участие в восемнадцати кампаниях. Вот тут-то и обнаруживалась лазейка для тех, кто мечтал украсить свой мундир, чистенький и от пороха и от наград, орденом, дававшимся другим за проявленную в боях исключительную храбрость.
По приблизительному подсчёту, в Российской империи из 10 500 (по другим сведениям — около 15 000) георгиевских кавалеров четвёртой степени порядка восьми тысяч получили орден именно за пресловутую выслугу, по сути равнявшую храбреца с расчётливым трусом. Недовольство боевых офицеров росло, и выслуженные кресты с 1816 года стали помечать специальной надписью. В 1833-м царское правительство внесло довольно показательную (показательную скорее по нежеланию навести реальный порядок) поправку в статут: на низшего «Георгия» ветеран мог рассчитывать лишь в том случае, если за весь долгий срок службы побывал хотя бы в одном (!) сражении. Понятное дело, эта оговорка никоим образом не могла удовлетворить людей вроде Давыдова, не раз рисковавшего жизнью под неприятельскими пулями. Однако прошло ещё более двадцати лет, пока в 1855 году такое награждение не отменили вовсе. Но так как служба после четвертьвекового юбилея часто не заканчивалась, а получивший «Георгия» за выслугу мог позднее отличиться и на бранном поле, то с февраля по май того же года действовала промежуточная схема, в соответствии с которой кавалер, уже имевший эмалевый крестик, получал к нему особый бант из Георгиевской ленты. Впрочем, и это не решало проблему, и порядок награждения окончательно ужесточили. Правда, по инерции поощрение крестом за выслугу и дополнительным Георгиевским бантом продолжалось ещё несколько лет после выхода указа, а единичные случаи — аж до 1870 года.
В 1856 году произошло важнейшее для георгиевских кавалеров событие: наконец-то разрешили при получении следующей степени ордена оставлять при себе и носить предыдущую.
Что же давал орден Святого Георгия помимо потомственного дворянства и всеобщего уважения? Награждённый получал пенсию. Так, в 1843 году выплаты кавалерам низшей степени увеличили в полтора раза, что составило по сто пятьдесят рублей каждому ежегодно. Сумма, конечно, небольшая, но при умеренной жизни (а какой она могла быть среди бесконечных походов!) можно было как-то протянуть. Кавалеры второй и третьей степени продолжали получать свои 400 и 200 рублей, а вот кавалеры первой степени (их на тот год в живых насчитывалось всего шесть) тоже почувствовали высочайшее внимание на собственном кармане: ежегодная выплата им с 700 рублей увеличилась до 1000. К слову, «накопить» Георгиевскую пенсию было нельзя — двух- и более кратным кавалерам выдавалась сумма, соответствующая последней из полученных степеней.
В капитуле, казалось бы, чисто мужского «Георгия» числились и кавалерственные дамы. Хотя, в отличие от учредительницы и гроссмейстера Екатерины II, возложившей на себя высшую орденскую степень, обе другие представительницы прекрасной половины человечества удостоились лишь последней. Зато какой ценой!
Принцесса Мария София Амелия Баварская из рода Виттельсбахов, родная сестра австрийской императрицы Елизаветы, знаменитой Сисси, ставшая супругой Франциска II, недолговременного и последнего короля Обеих Сицилий, была в отличие от скорбного душой и телом мужа личностью выдающейся. Когда в 1860 году революционная армия Гарибальди, подошедшая к Неаполю, вынудила королевское семейство покинуть город и укрыться в восьмидесяти километрах к северу, в прибрежной крепости Гаэта, Мария София в числе других руководителей обороны выказала недюжинную стойкость, за что получила в монархически настроенной европейской прессе прозвище «Королева воинов» (задолго до телесериальной Зены), а от восхищённого её подвигом русского императора Александра II — «боевую» четвёртую степень ордена Святого Георгия. После падения крепости королева отправилась в изгнание в Рим, где без памяти влюбилась в офицера папской гвардии, забеременела от него и тайком от мужа родила дочь. Поступок, конечно, не героический, но и недюжинный по тому времени.
Третьей и последней кавалерственной дамой ордена в 1915 году стала 21-летняя сестра милосердия Римма Иванова. Но не за помощь раненым, а «за мужество и самоотвержение, оказанное в бою, когда после гибели всех командиров приняла командование ротой на себя». Римма отправилась в январе 1915-го на фронт добровольно, причем сначала выдавала себя за мужчину. В рядах 83-го Самурского, а затем 105-го пехотного Оренбургского полка она вскоре отличилась так, что ей, уже как женщине, были пожалованы две Георгиевские медали и четвёртой степени Георгиевский солдатский крест (об этих наградах поговорим отдельно). 9 (22) сентября близ деревни Мокрая Дубрава Пинского уезда Минской губернии произошёл бой, ставший для неё последним. Иванова, как обычно, занималась перевязкой, когда вдруг выяснилось, что все офицеры выбыли из строя. Тогда медсестра сама подняла рядовых в атаку и повела их на германские позиции. Немцы, не сумевшие бежать, были переколоты в окопах, но пуля раздробила девушке бедро. Она умерла от кровопотери на руках солдат, успев, передавали, прошептать: «Господи, спаси Россию…».
Иллюстрированный журнал «Искра» (не путать с одноименной газетой) писал: «Государю императору было угодно за беспримерный подвиг, увенчавшийся полным успехом, содеянный сестрой милосердия Риммой Михайловной Ивановой и запечатленный её смертью, наградить доблестно погибшую офицерским орденом святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени». На родине, в Ставрополе, гроб с телом Ивановой опустили в землю под ружейный салют. О ней был немедленно снят пропагандистский фильм, в котором экранная медсестричка передвигалась по полю боя на высоких каблуках, размахивая при этом саблей. «Фильма» так возмутила однополчан Ивановой, офицеров-оренбуржцев, что те пообещали «отловить антрепренёра и заставить его съесть плёнку». Вскоре особым циркуляром товарища министра внутренних дел картина была снята с проката.
Не забыта Иванова и в наше время: памятник героям Великой войны в Вязьме, где Римма числилась среди других достойных, давно снесён, но на месте гибели сестры милосердия в Беларуси совсем недавно, в 2014 году, установили памятный знак. А в России, о спасении которой Римма молила Бога, имя её носит одна из ставропольских улиц.
В июне 1917-го, уже при новой либерально-демократической власти, появилась модификация «Георгия» четвёртой степени — крест с лавровой ветвью. Предназначался такой орден для нижних чинов, выполнявших в бою, как Римма Иванова, офицерские обязанности. Эта разновидность просуществовала недолго, до декабря, причём второй и последний из кавалеров, подпрапорщик Осетинского конного полка Сокаев, получил своей крест с ветвью уже после формального упразднения награды. Через год, в декабре 1918-го, адмирал Колчак возобновил награждения офицеров — «за борьбу с большевиками». Но вот что интересно и показательно: в жестокие годы гражданской смуты никто из русских офицеров не получил высшие степени «Георгия». Десять человек на Восточном фронте были отмечены третьей степенью (в том числе и сам Колчак — за успешное наступление под Пермью), ещё семьдесят четыре офицера — низшей, а двадцать из этих последних — Георгиевским оружием, носитель которого (оно украшалось специальной Георгиевской лентой, так называемым темляком на эфесе) с 1807 года приравнивался к орденскому кавалеру. У Антона Деникина в его Добровольческой армии офицеров этим орденом не награждали вообще, но рядовые за отличие в бою по обычаю поощрялись солдатскими Георгиевскими крестами.
В 1992 году указом Президиума Верховного Совета от 2 марта за № 2424–I «О государственных наградах Российской Федерации» постановлено было «вернуть российский военный орден Святого Георгия» и знак «Георгиевский крест». Награждения «Святым Георгием» вновь начались в 2000-х годах.