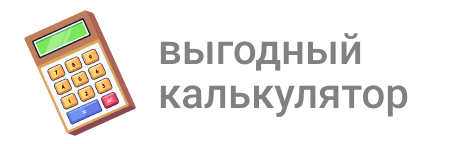ДДТ до сих пор остается самым эффективным средством отпугивания малярийных комаров -- и если бы не борьба с ним, построенная на ложных обвинениях, десятки миллионов людей не умерли бы в детском возрасте
В поисках волшебной пилюли для винограда и картошки
Вопрос борьбы с насекомыми и агрокультурными болезнями встал перед человеком примерно 10 000 лет назад — сразу после появления развитого сельского хозяйства. Первые технологии борьбы с вредителями и первые пестициды появились еще в Античности.
В XIX веке стало понятно, что вредители и болезни могут очень сильно влиять на урожай, независимо от уровня развития технологий и масштабов посева. Эпидемия фитофтороза (паразитического грибка) на картофеле стала причиной Великого голода в Ирландии 1840-х годов. Она повлекла за собой гибель миллиона человек и эмиграцию еще 1,5 млн, что сократило население страны на 30%. Похожие эпидемии, хоть и в меньших масштабах, поразили Англию, Бельгию и другие европейские страны.
Примерно в то же время крошечное насекомое филлоксера виноградная и грибок мучнистая роса, пришедшие из Северной Америки, практически уничтожили винодельческую индустрию Франции.
Метод борьбы с ними появился благодаря счастливой случайности. Бордосская жидкость, изобретенная химиком Жозефом Луи Прустом, предназначалась для защиты урожая от воровства: раствор медного купороса, наносимый на плоды, визуально напоминал плесень. Другой ученый, ботаник Пьер Мари Мильярде обнаружил, что к обработанным смесью ягодам не прикасаются не только грабители, но и грибок. Он установил, что причина — медь, содержащаяся в растворе. Медный купорос (в ходу до сих пор). Он куда эффективнее золы, но и куда опаснее: смерть от медного купороса наступает всего от 10 грамм (половина крыс погибает от него при дозе 30 миллиграмм на килограмм массы).
C 1892 года применялось еще более опасное соединение – арсенат свинца. Да, вы прочитали верно: люди обрабатывали сельхозкультуры (которые потом ели другие люди) соединением мышьяка и свинца. Мышьяк — яд и достоверный канцероген. Свинец – просто яд. Оба эти вещества имеют неприятную особенность: они плохо выводятся из организма, накапливаясь в нем.
Летальная доза такого пестицида для человека весом в 70 килограмм, в зависимости от состояния его здоровья – от 1,05 до 3,5 грамм. Причем в научной литературе утверждают, что бывали случаи вскрытия жертв реального отравления. То есть это не чисто теоретическая смертность, как от ДДТ, а такая, которая действительно случалась. Забавно, но этот пестицид в США запретили использовать в 1988 году – на 16 лет позже ДДТ. Во многих странах мира запрета все еще нет.
Изобретение ДДТ
После открытия Бордосской жидкости многие химики стали с энтузиазмом искать панацею, которая позволит избавить все сельскохозяйственные культуры от любых угроз разом. Среди этих экспериментаторов оказались и швейцарские химики. В середине 1930-х годов Швейцария страдала от неурожаев, вызванных болезнями растений, поэтому ученые стремились найти новые способы защитить посевы.
ДДТ, долгожданное чудо-лекарство придумал в 1939 году химик Пауль Мюллер, сотрудник химической компании J R Geigy. На создание состава он потратил более четырех лет. За это время ученый провел 349 неудачных экспериментов, прежде чем наконец получил желанную формулу.
Открытие заключалось не в изобретении нового соединения, а в открытии новых свойств уже хорошо известного. ДДТ (Дихлордифенилтрихлорэтан) был получен и описан австрийским химиком Отто Цайдлером еще в 1874 году, задолго до бума синтетической химии. Спустя 60 лет Мюллер выяснил, что вещество обладает сильным инсектицидным действием, о котором Цайдлер даже не догадывался.
В начале 1940-х компания J R Gaigy получила патент в британском, американском и австралийском бюро. Стремительное распространение вещества подтолкнула война и ее неизменные спутники — антисанитария, вши и вспышки смертельных болезней. В 1944 году американские военные провели эксперимент в Неаполе, где массовое опрыскивание домов при помощи ДДТ помогло остановить засилье вшей и вызванную ими эпидемию тифа.
Американского военнослужащего обрабатывают ДДТ: вши в войну переносили тиф, в Первую мировую убивший сотни тысяч солдат
Американцы немедленно начали применять новое изобретение в тылу. Новым инсектицидом опрыскивали виноградники, сады, поля, молочные фермы и даже обработали старинный дилижанс из Массачусетса с обивкой, кишащей молью — везде химикат успешно убивал насекомых-вредителей.
1946. Борьба с полиомиелитом при помощи ДДТ в Сан-Антонио, Техас. Тогда ошибочно считалось, что болезнь распространяют мухи. Источник
Инновационность вещества была и в том, что насекомые умирали от малейшего контакта с ним, даже не употребляя его в пищу. При этом первое время ДДТ казался относительно безопасным для людей, кроме отдельных случайностей. К примеру, в 1945 году им отравились голодающие тайваньские военнопленные — но лишь потому, что те приняли ДДТ за муку и напекли из него хлеба. При этом лишь у некоторых из них наблюдались неврологические нарушения.
В 1948 году Пауль Мюллер за свое открытие был удостоен Нобелевской премии по медицине «за открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда». Это был первый и единственный случай в истории, когда учёный получил наивысшую награду за открытие инсектицида. Нобелевский комитет отметил, что вещество спасло жизнь и здоровье сотен тысяч от таких болезней как тиф, малярия, желтая лихорадка и чума, которые переносятся насекомыми.
От эйфории к ненависти
Но не все оказалось так гладко. Очень скоро в СМИ появились мнения о потенциальной опасности ДДТ. Еще в 1945 году в статье National Geographic отмечалось, что перспективный пестицид не щадит и полезных насекомых. Авторы материала настаивали, что побочный ущерб от действия вещества для окружающей среды, не столь значимый во время войны, требует дополнительного изучения перед использованием в условиях мирного времени.
Кроме того, сразу после выхода продукта в массовую продажу в 1945 году, Совет по военному производству выпустил предостережение от использования ДДТ из-за риска нарушения природного баланса. Регулятор отметил, что остатки от его применения могут нанести вред людям. Как отмечает историк медицины Елена Конис, проблема заключалась в том, что характер и степень этого вреда не были в должной степени изучены.
Глобальные изменения отношения к пестициду начались в 1960-х, когда вышла в свет книга Рейчел Карсон «Безмолвная весна». Карсон, биолог из Пенсильвании, к ее 55 годам страдала от рака груди и стремилась найти токсичные вещества, которые могут его вызывать. До выхода произведения Рейчел тщательно скрывала свой рак: считала, что если противники ее точки зрения узнают об этом, то посчитают текст предвзятым.
Как отмечает Конис, к этому моменту, многие американцы уже два десятилетия требовали от правительства более глубокого изучения негативных последствий пестицида.
Отдельно Карсон описывала случаи отравления людей ДДТ и указывала на возможную канцерогенность — это утверждение по-прежнему остается дискуссионным и однозначно не доказанным. Известно, что ДДТ может вызывать онкологические заболевания у некоторых видов животных.
В 1962 году Карсон участвовала в экологической конференции в Белом Доме, где распространила первые экземпляры своей книги и заручилась поддержкой научного сообщества. Химические концерны во главе с DuPont — компании, производившей большую часть ДДТ, развернули против книги Карсон большую медийную кампанию. Но сыграл эффект Стрейзанд: общественный резонанс только нарастал. Как верно отмечает ее биограф, Карсон «вполне осознанно решила написать книгу, ставящую под вопрос парадигму научного прогресса, определившую американскую культуру послевоенной эпохи».
Работа Карсон стала катализатором для изменений. В 1972 году в США полностью запретили использовать ДДТ для опыления растений — к этому моменту только в Америке было распылено 1,35 млрд тонн инсектицида. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 года зафиксировала запрет на использование ДДТ в сельском хозяйстве, и на 2019 год ее ратифицировало 183 государства, в том числе Россия.
Конвенция позволяет использовать ДДТ лишь для борьбы с человеческими болезнями, переносимыми насекомыми (в первую очередь речь о малярии) и лишь в случае, если недоступны другие инсектициды. Поэтому препарат все еще активно используется во многих странах Африки и Азии как основное средство борьбы с эпидемиями.
Для избирательной борьбы с насекомыми-переносчиками человеческих болезней разработали два метода использования ДДТ и его аналогов.
IRS — метод распыления веществ внутри помещений, который появился в 1950-х во время массовых кампаний по борьбе с малярией. Малярийный комар, который уже укусил человека-переносчика, некоторое время остается в его доме. Но обработка стен приводит к тому, что он умирает, не успев вылететь из него.
Противомоскитные сетки, обработанные химикатами (ITN) — метод, при котором ДДТ наносится не на помещение, а на сетки, которыми люди укрываются во сне. Именно к этой технологии обратились в начале XXI века такие страны как Китай, Вьетнам и Соломоновы острова, страдающие от вспышек малярии. Современные сетки содержат в себе действующие вещества, которые сохраняют эффективность до трех лет, что избавляет от необходимости повторной обработки, сложно осуществимой в районах эпидемии. За последние 20 лет было зарегистрировано более 400 патентных заявок на подобные устройства.
Так ли опасен ДДТ на самом деле?
«Безмолвная весна» сыграла в истории запрета ДДТ решающее значение. Но эффект книги многократно усилила история ее создательницы: умирающая от рака ученая отважно борется с гигантскими химическими корпорациями за благо человечества. Тем не менее, Карсон и по сей день обвиняют в смерти миллионов людей от тифа и малярии после запрета пестицида. Хотя ДДТ был первоначально запрещен только в США, это вскоре сказалось на развивающихся странах, получившим помощь от Агентства США по международному развитию: все проекты с использованием пестицида были свернуты.
Само решение о запрете пестицида не было единогласно поддержано учеными. В 1971 году недавно созданное Агентство по охране окружающей среды изучило научные доказательства и пришло к выводу об относительной безвредности вещества для природы и человека. К похожим выводам пришла Национальная академия наук США. В ее докладе утверждается, что «на момент написания статьи все доступные заменители ДДТ являются более дорогими и определенно более опасными». Воздействие ДДТ на иммунную систему человека, по-видимому, носит ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае угнетение образования антител), однако окончательно это не установлено.
Наука знает эффективный способ избежать проблемы смешных корреляций: нужно поставить контролируемый эксперимент. Дать лабораторным животным ДДТ и посмотреть, насколько чаще у них начнет возникнет рак.
Проблема в том, что такие эксперименты уже ставили. Но найти статистически отличия по частоте рака в лаборатории не удалось: в контрольной и основной группах частоты были сходные. Часть этих работ вообще была раскритикована: их авторы брали лабораторных животных из линий с повышенной вероятностью рака, а для таких высока вероятность «шумов». Отдельные животные таких специально выведенных линий могут иметь большую вероятность развития опухолей, чем другие грызуны из той же линии.
Вывод: никаких научных данных о том, что ДДТ реально повышает шансы на заболевание раком, не существует. Почти шесть десятков лет поисков в этом направлении так ничего и не дали.
Можно допустить, что эти выводы стали частью кампании химических гигантов против Карсон — в американской науке того времени корпорации имели лоббистское влияние даже на самых авторитетных ученых. Тем не менее, главная проблема «Безмолвной весны» в том, что это скорее художественное произведение. Карсон оперирует яркими образами: сама метафора тихой весны, в которой не слышно пение птиц, проходит красной нитью через всю книгу. При этом для научной работы в ней недостает указаний на конкретные виды и совсем нет статистики.
Согласно исследованиям, популяция многих птиц в США не только не упала, но даже увеличилась за время активного использования пестицида. Более поздние исследования показали, что ДДТ действительно может влиять на популяцию некоторых хищных птиц, но вовсе не так, как было описано в книге Карсон.
Карсон превозносит исследования ДэУитта, называя его эксперименты на перепёлках и фазанах классическими, но при этом она перевирает данные, которые получил ДэУитт в ходе своих исследований. Так, ссылаясь на ДэУитта, Карсон пишет, что «эксперименты доктора ДэУитта (на перепёлках и фазанах) установили факт, что воздействие ДДТ, не причиняя никакого заметного вреда птицам, может серьёзно влиять на размножение. Перепёлки, в диеты которых добавлялся ДДТ, на всём протяжении сезона размножения выжили и даже произвели нормальное число яиц с живыми зародышами. Но немногие птенцы из этих яиц вылупились».
Дело в том, что из яиц перепёлок, питавшихся пищей, содержащей ДДТ в больших количествах, а именно 200 ppm (то есть 0,02 %; для примера, в то время установленная в СССР предельно допустимая концентрация ДДТ для яиц составляла 0,1 ppm), вылупилось лишь 80 % птенцов, однако из яиц перепёлок контрольной группы, пища которых была свободна от ДДТ, вылупилось 83,9 %. Таким образом, разница между перепёлками, потребляющими пищу с ДДТ, и контрольной группой составила лишь 3,9 %, что не давало возможности сделать вывод относительно воздействия ДДТ на репродуктивную функцию у птиц.
В то же время, исследования показывают, что высокие дозы ДДТ действительно токсичны для человека. Вещество негативно влияет на печень, нервную и эндокринную системы. Согласно исследованию 2021 года ДДТ действует эпигенетически — он может повышать риски развития ожирения, гипертонии и рака груди даже у внучек женщин, которые получили большую дозу во время беременности.
Тем не менее не учитывают, что Карсон не выступала за полный запрет вещества, но призывала ограничить его использование и применять лишь там, где необходимо. Писательница хотела не остановить пестицида, а призвать потребителей относиться к нему с осторожностью, а государство и корпорации — тщательнее контролировать производство и применение таких веществ.
Сколько миллионов убила «Безмолвная весна»?
Самую жесткую критику книга Рейчел Карсон получила не за то, что называет ДДТ канцерогеном, хотя научных доказательств этого нет. И не за то, что она описывает упадок птиц от ДДТ, несмотря на то, что число птиц в эпоху этого инсектицида в США резко выросло. Все это можно было бы пережить: от воображаемого ДДТ-рака из ее книг никто не умер. Да и число птиц, несмотря на воздействие этого инсектицида, вовсе не сократилось.
Проблема заключается в том, что ДДТ активно использовали для борьбы с малярией – а вот после выхода ее книги инсектицид в этих целях стали применять гораздо меньше.
Зоны распространенности малярии по годам. Хорошо видно, что после внедрения ДДТ в середине 1940-х годов эта болезнь существенно отступила на самых разных континентах
До 1945 года, когда он попал в гражданское использование, малярия была самым обычным делом и у нас, и в США, и в Европе. Откроем «Энциклопедию Брокгауза и Ефрона»:
«на Кавказе местные войска в некоторых зараженных участках в 3-4 года совершенно вымирали. Обычно зараза гнездится в болотистых местностях. К числу таких следует отнести Пинские болота в Западном крае Европейской России… Пермская губерния… Швеция больше страдает от М., чем соседняя Норвегия». В нашей стране болезнь встречалась и в Сибири, и на Дальнем Востоке – не затронуты были лишь тундровые зоны и северная часть таежной.
СССР далеко не сразу смог изменить ситуацию. Например, в 1923 году только Москве было 150 тысяч малярийных больных. В 1934 году по всей стране их было 9,48 миллионов человек. Точные цифры смертности определить сложно, но в среднем примерно 1% переболевших погибал. К сожалению, чаще всего это были дети. Ясно, что такое положение дел не устраивало власти, и они пытались покончить с малярией.
В качестве средства борьбы с комаром – без которого плазмодий не может попасть в наш организм – использовали «нефтевание», то есть полив луж и водоемов керосином. Керосин много токсичнее ДДТ для людей и крупных животных, и довольно плохо разлагается в естественных условиях. Однако добиться с его помощью ликвидации малярии сложно. Все дело в том, что против насекомых его токсичность значительно ниже, чем у «настоящих» инсектицидов. В дополнение советский учёный Сергей Юрьевич Соколов предложил завезти в страну североамериканскую рыбку гамбузию!
Родиной гамбузии является Северная Америка. Эта маленькая, но ооочень прожорливая рыбка, в основном питается личинками малярийных комаров. Гамбузию до сих пор продолжают разводить в сочинском питомнике «Гамбузия» и расселять по водоемам города для профилактики.
Методы борьбы с малярийным комаром в СССР до начала эпохи ДДТ: женщина поливает керосином поверхность водоема.
Поэтому уже в 1946 году в СССР начали массовое производство ДДТ («дуста»). Со следующего года он начал оказывать влияние на малярию. В 1946 году малярией переболело 3,36 миллиона советских граждан, а в 1947 году – уже 2,8 миллиона. К 1960 году заболевших было… 368 человек. Малярию победили: новые ее случаи, как и в сегодняшней России, были завозными. Сама по себе такая угроза невелика: если заезжего больного не успел укусить малярийный комар, то дальше заболевание не распространится.
Город Сочи, куда при царе ссылали провинившихся военнослужащих с Кавказа – по причине зашкаливающей малярии – с начала 1960-х стал курортом. До того отдыхать в таком месте мог только человек с действительно крепкими нервами.
Аналогично события развивались и в США: в 1947 году там приняли программу искоренения малярии, опрыскали ДДТ миллионы домов, а водоемы «посыпали» дустом с воздуха. К 1951 году все случаи малярии в Штатах стали только завозными.
Малярия была бичом для всего мира: согласно ВОЗ, в 1947 году ею переболели 300 миллионов человек, из которых три миллиона погибли. Американские и советские программы борьбы с ней начали копировать. В Индии в 1947 году на 330 миллионов населения было 75 миллионов заболевших и несколько менее миллиона погибших. Затем там массово применили ДДТ – и в 1965 году в Индии от малярии никто не погиб.
Непредвзятый исследователь, выпустив книгу о ДДТ в 1962 году, не мог не указать на все эти факты. Он должен был написать: за 1945-1965 годы этот инсектицид спас явно больше десятка миллионов жизней. Увы, ничего этого в «Безмолвной весне» нет.
Увы, последствия запрета, который был бы невозможен без книги Карсон, поистине чудовищны. Дело в том, что Вашингтон – это сильнейший центр влияния на планете. USAID, американская правительственная организация, предоставляющая помощь странам третьего мира, делает это только тогда, когда эти страны выполняют ее условия.
После 1972 года одним из них стало: никакого ДДТ в программах, в США считают этот пестицид опасным. ВОЗ, также находящаяся под американским влиянием, стала давать такие же рекомендации, и переключилась с профилактики малярии через борьбы с комарами только на ее лечение хлорохином.
А создало ли человечество идеальный инсектицид?
После запрета ДДТ химики довольно быстро разработали большое количество новых, более эффективных и избирательных инсектицидов. Но, как выяснилось позже, они не сильно безопаснее ДДТ.
Третье (последнее) поколение инсектицидов состоит из двух групп — неоникотиноидов и пиретроидов. Они обладают более избирательным действием, а их продукты лучше разлагаются в окружающей среде. Но и они не лишены проблем и рисков.
Неоникотиноиды — самый распространенный вид инсектицидов. Они основаны на никотиновых соединениях, которыми отпугивали насекомых еще в древние времена. Три самых популярных среди них на 2015 год составляли 80% от общего объема используемого класса веществ.
Два из них, имидаклоприд и клотианидин, запатентованы фармацевтическим гигантом Bayer в 1985 и 2002 году. Права на изобретение третьего неоникотиноида, тиаметоксама, принадлежит швейцарской компанией Syngenta, выигравшей патентный спор у того же Bayer.
Ряд ученых указывает на то, что применение всех этих веществ тоже должно быть жестко ограничено. Так, американский энтомолог Джон Тукер утверждает, что вещества убивают ряд водных беспозвоночных. Фредерик Роу Дэвис, историк экологии и биологии из Университета Пердью в Индиане, считает, что неоникотиноиды угрожают популяции медоносных пчел и перелетных птиц — именно в этом обвиняли ДДТ. В мае 2023 года то самое Агентство по охране окружающей среды, созданное в ходе расследования действия ДДТ, опубликовало доклад о том, что три самых популярных неоникотиноида, угрожают существованию 200 вымирающих видов животных и растений.
Пиретроиды — искусственно синтезированные эфиры, аналогичные тем, что содержатся в далматской ромашке и других природных инсектицидах, также известных человечеству уже много столетий. Большинство современных пиретроидов произведены и запатентованы японским химическим гигантом Sumitomo Chemical. Именно его химики в начале 1950-х начали коммерческое использование аллетрина, первого современного пиретроида.
Но и этот класс далеко не идеален. Исследования показывают, что у насекомых может развиваться устойчивость к пиретроидам, что со временем делает конкретное вещество бесполезным. Ученые рекомендуют регулярно осуществлять наблюдение за устойчивыми популяциями и чередовать применение разных веществ.
Еще один инсектицид, хлорпирифос, был изобретен Dow Chemical еще в 1965 году, но споры относительно него ведутся до сих пор. Вещество остается одним из самых популярных в мире, но при этом вызывает доказанный вред человеку, включая кому и смерть при остром отравлении большими дозами. В 2017 году Агентство по защите окружающей среды США отказалось запрещать его, несмотря на несколько массовых случаев отравления. Как отмечает докторант Гарвардского университета Синди Ху, из-за того, что в сельском хозяйстве в США занято большое число нелегальных иммигрантов, есть риск того, что случаев отравления, которые не были зарегистрированы, намного больше.
У ДДТ нет и, скорее всего, никогда не будет популяризаторов. Научная популяризация имеет свои законы: если вы «продаете» читателю страх, он будет «покупать». И книги, и содержащиеся в них идеи.
Глобальное потепление вызвало резкий рост биомассы на Земле – до невиданных в истории значений? Вы не продадите это: страха нет. Зато вы определенно сможете продать книги про то, как оно уничтожает растительность, отчего мы уже скоро все вымрем от голода. И совершенно все равно, что в жизни все наоборот: то, что вы не можете продать, нет смысла производить. Страх лучше продается – поэтому в гонорарной сетке популярного автора он спокойно победит здравый смысл.
Так что же мешает создать оппозицию «страх перед ДДТ убил больше, чем Вторая мировая» и на этой основе снова внедрить его в борьбу с малярией?
Увы, это невозможно. Основная часть малярийных смертей – вне западного мира. Как знает любой житель России, незападные страны (за редкими исключениями) являются интеллектуальными колониями Запада. То есть там внедряются в основном те идеи, что приняты в западном мире.
В январе 1944 года с помощью ДДТ была предотвращена эпидемия тифа в Неаполе. Помимо эффективности ДДТ против тифа, обнаружилась относительная безвредность этого инсектицида: 1,3 миллиона человек были опрысканы примерно 15-граммовой дозой с 5 %-м содержанием «дуста», и не было зафиксировано никаких пагубных эффектов для людей, кроме нескольких случаев кожных раздражений[4]:679. Значительные успехи ДДТ в борьбе с тифом были затем достигнуты в Египте, Мексике, Колумбии и Гватемале[4]:679.
В Индии благодаря ДДТ в 1965 году ни один человек не умер от малярии, тогда как в 1948 году погибло 3 млн человек. Согласно ВОЗ, антималярийные кампании с применением ДДТ спасли 5 миллионов жизней[5].
В Греции в 1938 году был миллион больных малярией, а в 1959 году всего лишь 1200 человек.
За пять лет действия кампании по искоренению малярии в Италии, развёрнутой А. Миссироли, к 1949 году в стране практически исчезли комары-носители малярии[4]:679.
Использование ДДТ в рамках программы борьбы с малярией в значительной степени избавило Индию от висцерального лейшманиоза (переносчиком которой являются москиты) в 1950-е годы[6]. После прекращения применения инсектицидов эпидемии висцерального лейшманиоза вспыхнули с новой силой начиная с 1970-х годов[7].
Применение ДДТ в сельском хозяйстве значительно повысило урожаи[4]:679 и было ключевым фактором в развитии так называемой «Зелёной революции»[8]:99.