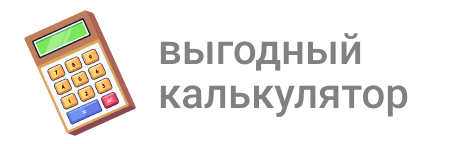в магазине на Молодежной, а потом я его купила.
Холст был высотой 100 см и совершенно белый. Идти с ним домой было одно удовольствие: в глазах прохожих я выглядела, что называется, интересной - еще бы, с рамой размером 2/3 от всей меня под мышкой. У меня на этот холст были неясные, но очень монументальные планы.
Сначала я рисовала на нем дом из Минска, рисовала летом на балконе: так меня вычислили соседские дети - приходили потом продавать мне новые холсты, маленькие дворовые коммерсанты. Дом рос медленно и неуверенно.
Такие темпы строительства меня никогда не устраивали, поэтому я все закрасила и начала портрет друга в профиль: он как раз тогда вырос до вполне рисовабельного дяденьки с трагическим флером на усатом лице.
Профиль тоже рос не туда и не так. Пришлось его закатать композицией из огромных маковых коробочек в стиле авангард. Догадайтесь, хорошо ли они росли.
Где-то в этот момент я начала подозревать, что монументальная живопись меня избегает, махнула рукой и взяла себе дело по силам. Начала ремонт. Неделя в пыли и обрывках газет - и шпатель стал как-то удобно лежать в руке. Шпатлевка оказалась не липкой и текучей, а живой и мягкой. Наждачки стало уходить меньше, остались лишние листы. Ремонт закончился, я начала сублимировать на холст.
В ход пошли шпатели, мастихины, пальцы, локти, гипс, остатки шпатлевки и замес краски с прошлого нового года. Рожок и насадки для декорирования тортов появились у меня в угаре, в бреду, не помню когда. Перед глазами мерцал нежно-голубой в белых цветах потолок Ливадийского дворца.
А потом прибежала мама, крикнула "чур, мое!" и убежала, и холст убежал вместе с ней. Теперь живет у родителей на каминной полке.
Ливадийский дворец, голубая гостиная